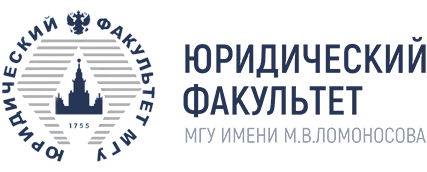О Нинели Федоровне Кузнецовой – с любовью… (воспоминания А.А. Матвеевой)
Доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, к.ю.н. А.А. Матвеева
О Нинели Федоровне Кузнецовой — с любовью...
О творческом таланте Нинели Федоровне, о ее недюжинном аналитическом уме, о ее научном наследии написано немало и за время, прошедшее с ее кончины, и задолго до этого. А полное осознание потери едва ли вообще мыслимо... Но здесь, в этой книге, идея которой заключалась в том, чтобы дать возможность вспомнить неординарного и в то же время очень живого человека без каких-то правил и купюр, я хочу воспользоваться этим правом и написать о Нинели Федоровне то, что наиболее ярко впечаталось в мою память, что пронеслось калейдоскопом 27 ноября 2010 года и вспоминалось в последующие, в близкие к кончине дни...
Я поступила на вечернее отделение юридического факультета МГУ в 1987 году, работала в лаборатории правовой информатики и кибернетики. Нинель Федоровну, как заведующую кафедрой уголовного права, криминологии и уголовно-исправительного права на общефакультетских мероприятиях, конечно, встречала. Но вот в какой момент мы познакомились с ней лично, точнее, в какой момент меня она начала идентифицировать как студентку специализации, да еще достойную аспирантуры — честно говоря, не припомню. Помню только, что это было примерно в середине пятого курса. Я шла на красный диплом, и все же невероятно волновалась перед ГОСами по специальности. Еще бы! В комиссии была сама Нинель Федоровна. Очередь подошла таким образом, что сдавала я именно ей. Я до сих пор вспоминаю эту смесь моего волнения и, как ни странно, поддержки, которая исходила от нее. На вопросы билета ответила легко, а вот дополнительный слышала как в тумане. Но все прошло благополучно, успешно были сданы и вступительные экзамены в аспирантуру, и я — я на кафедре уголовного права. И хотя дипломную работу я писала на тему статистического метода в криминологии, Нинель Федоровна сразу довольно категорично предложила мне выполнять кандидатское исследование под ее руководством и по преступности в Москве. Нужно ли говорить, что согласилась я без колебаний.
Мы закончили университет в 1992 г. Время было непростое. Я поступала в университет с гипотетической ориентацией на аспирантуру, такой путь прошел мой отец, правда, на другом факультете, в общем, по-другому почему-то и не мыслилось. А вот когда мы университет оканчивали — в другой стране, с другой социально-экономической системой — ситуация серьезно изменилась. Престиж аспирантуры не упал, нет... Но уже сложно было заниматься только научной деятельностью. С 4 курса я уже работала в юридической компании. И в 1995 г., когда подошел срок защиты, а диссертация еще требовала серьезной доработки, Нинель Федоровна предложила мне перейти в заочную аспирантуру и стать ассистентом кафедры. И без предварительной подготовки озвучила свое предложение на кафедре. И я ничего не ответила... Я просила время подумать, что-то говорила о своих проблемах. В гневе Нинель Федоровна сказала, кафедра тоже имеет свое достоинство, и вторично предлагать мне не станет. Хорошо, что заступился Анатолий Егорович Якубов, который вел у меня семинарские занятия. Повторное предложение последовало, на которое я уже ответила согласием. Сейчас только понимаю, как обидела я тогда Нинель Федоровну.
В моей жизни и в жизни многих людей Нинель Федоровна была и остается Учителем с большой буквы. Она демонстрировала не только блестящую эрудицию и ораторские способности, увлекающие аудиторию мгновенно, с первых слов и до последнего ответа на вопросы. Не только безупречную методологию построения лекций, семинарских занятий и спецкурсов. Она учила своим примером незаметно, подспудно (и наиболее действенно) еще одному искусству. Искусству общения со слушателями, с аудиторией, со студентами. Искусство это многогранно, в него входит не только квалификация и педагогический талант. Это еще и чувство такта, уважения, редкого дара слушать и слышать собеседника. Этим талантом она владела совершенно.
В обязанность научных руководителей входит посещение семинарских занятий своих аспирантов. Я вела занятия по уголовному праву, и Нинель Федоровна пришла ко мне. Ну, что такое первые семинарские занятия не нужно объяснять никакому преподавателю. К тому же при минимальной разнице в возрасте со студентами. Страх, неуверенность в себе, дрожь в голосе. Нинель Федоровна пришла не с самого начала, прошла и села за последнюю парту. Семинар был на тему «Обратная сила закона». Волновалась я невероятно. Но вот что удивительно. Когда пришла Нинель Федоровна — я не почувствовала никакого давления. Она сидела с довольно отстраненным видом и казалось, вообще думала о своем. Благодаря этому студенты скоро перестали замечать ее присутствие, а Нинель Федоровна, как раз, замечала все: и плюсы, и промахи молодого преподавателя. Это было необыкновенное проявление такта к начинающему педагогу. Конечно, с трепетом ждала я ее вердикта. Замечания, естественно, были — и что превращаю семинар в мини-лекцию, и что в основном спрашиваю тех, кто поднимает руку. А вот за что мне досталось с лихвой — так это за обращение. В моей группе, которую посетила мой научный руководитель, училась наша лаборантка, звали ее Катя. Хорошая и очень способная девочка. И когда она подняла руку, я машинально произнесла: «Да, Катя, пожалуйста, продолжайте». Вот это-то эпизод и припомнила Нинель Федоровна. Как коршун она накинулась с вопросом: «Вы что, студентов по имени называете?». Нет, ответила я (и это была правда), только по фамилии. «Запомните, это Московский университет! Только по фамилии и на Вы!». Помнили, конечно. Всю жизнь Нинель Федоровна была с нами на Вы. Редко проскальзывало у нее «ты», скорее, нечаянно. Но это было очень приятно. Тем более, что в этом случае она никогда не поправлялась.
В 1997 году отмечали 70-летие Нинели Федоровны. Отмечали в университете, широко. Нинель Федоровна пригласила многих своих коллег и друзей из самых разных научных и прочих образований. Как всегда, перед кафедрой встал проблемный вопрос подарка, который, как известно, должен быть не просто красивым и достойным, но и нужным. Аккуратно испросили саму именинницу. Она, будто ждала этого, спокойно ответила: «Лыжи». Вот так вот. Сразу скажу — ироничные улыбки и домыслы неуместны. Это не был демарш нежелающей стареть женщины. Это было указание на необходимую вещь. Это знает тот, кто знаком с Нинелью Федоровной ближе, чем позволяют официальные кафедральные рамки, кто бывал у нее дома и кто общался с ней на конференциях кулуарно, а не только официально. Я поняла это позже, на выездном заседании секции УМО в 2002 году в Архангельске. Вообще это был необыкновенно внутренне и внешне собранный человек, любивший природу, рыбалку, прогулки. То, что сегодня понимается под активным образом жизни был стилем ее жизни. У нее была просто категорическая неспособность жить по-другому. Успевала она очень многое, ее КПД зашкаливал. Знаете, про таких людей говорят: «она умела ВКУСНО жить».
В начале 90-х годов произошло воссоздание Учебно-методического объединения по юридическому образованию высших учебных заведений России. Нинель Федоровна была Председателем секции уголовного права и криминологии. В 2002 году впервые в качестве Ученого секретаря секции я принимала участие в выездном заседании секции. Оно проходило в Архангельске, на базе Архангельского государственного технического университета. Надо сказать, что организаторы подготовили чрезвычайно насыщенную программу, предусмотрев помимо рабочей части большую культурную составляющую. Это и посещение деревни Холмогоры, куда путешествовать надо было на пароме, и музей деревянного зодчества Севера в Малых Карелах, который раскинулся на много километров, и посещение Соловков. Вот тут-то я и вспомнила лыжи... Нинель Федоровна, несмотря на то, что она была старейшей из присутствующих членов секции, не то что не отставала, но часто была впереди, на лихом коне. Окончательное потрясение ждало нас на Соловках. Дорога туда была трудной, шла она по Белому морю, а после «приятного» морского путешествия практически весь день мы были на ногах. Была интересная экскурсия по Соловецкому монастырю и мемориальному комплексу, а после этого нас ждала увлекательная экскурсия по чудесным Соловецким озерам с их каналами и необыкновенной природой. Точнее, экскурсия должна была бы быть увлекательной, если бы не капризная северная погода. Весь день в воздухе была мокрая взвесь, а к началу экскурсии пошел дождь. Купленные здесь же плащики-дождевики создавали видимость спасения. Скажем прямо, желающих покататься на лодке, где еще самим нужно было грести, оказалось мало. Угрожающе мало. Но организаторы так старались! Нужно ли говорить, что Нинель Федоровна, которая обладала высочайшей внутренней культурой, не могла поступить иначе кроме как сесть в лодку. За ней последовали немногочисленные смельчаки. Тут же выяснилось, что Нинель Федоровна была не только прирожденным грибником, прекрасным рыболовом, но и превосходным гребцом. А ведь это не просто умение, это и серьезная физическая нагрузка, которую она с честью выдержала. Не могла подвести людей — очень хороший прием провели организаторы, она не могла их обидеть. Да, потом были сильные боли в пояснице от неудачного движения при выходе из лодки, но этого уже никто не видел. А перед АГТУ секция в грязь лицом не упала. Вообще она очень ценила человеческие отношения, личностное тепло. Мне запомнились многие сказанные ею в Архангельске слова о русском Севере, о северной культуре, традициях и отношениях. Даже не верилось, что родилась Нинель Федоровна в Средней Азии. Примечательно, что это был не красивый ответный жест на прекрасную организацию встречи. Это было сформулированное в слова испытанное ею чувство, ощущение тепла от приема, искренняя любовь к родной русской природе и культуре. Но и ее присутствие, ее человеческий облик тоже надолго останется в памяти тех людей, с которыми мы там встречались, это очень сильно ощущалось там.
В 2003 году выездное заседание проходило в Санкт-Петербурге. Оно было совсем другим по духу, более торжественным, помпезным, что-ли. Петербург отмечал 300-летие своего основания. И в этот год, к 50-летию научно-педагогической деятельности в издательстве «Юридический центр Пресс» в серии «Антология юридической науки» вышли избранные труды Нинели Федоровны. В один из дней, на торжественном заседания секции совместно с редколлегией «Пресса» прошла презентация книги. Присутствующие были удостоены чести получить книгу с дарственной надписью Нинели Федоровны. Как сейчас помню, она, прилично уставшая (это было не первое мероприятие дня), смотрела на «просящего», ненадолго задумывалась, и надписывала книгу чем-то таким проникновенным, таким точным, что радость от обладания книги с надписью действительно была «со слезами на глазах». Людей Нинель Федоровна видела прекрасно, характер и ценность человека определяла мгновенно и невероятно точно. Помню еще один момент, который поразил меня тут же. Когда я, по нескольку раз перечитав дарственную надпись, пролистала дальше, я увидела общее посвящение книги — «Моим ученикам посвящается». Нечасто встретишь такие слова, они дорогого стоят.
Последнее выездное заседание, в котором участвовала Нинель Федоровна, проходило в Уфе. В первый же день мы попали на довольно представительную научно-практическую конференцию, в работе которой приняли участие многие члены секции. Нинель Федоровна, конечно, тоже. В числе выступающих был мало тогда (для нас, во всяком случае) известный прокурор Республики Башкортостан Александр Владимирович Коновалов. Помню, как очарованы мы были его грамотной, удивительно образной, логичной речью. Нинель Федоровна талант чувствовала нутром. Она сразу же заинтересовалась персоной, ситуацию прояснил Борис Владимирович Волженкин, чьим студентом в свое время был А. Коновалов. Помню искреннюю радость Нинели Федоровны за талантливого прокурора в республике и за республику в связи с этим. Я не берусь предполагать, как сейчас Нинель Федоровна оценила бы отдельные идеи Министра юстиции, но талантливые черты она чувствовала, что называется, нутром. То же самое отличало ее и в кафедральной жизни. Почувствовав появление молодых талантливых аспирантов, она мгновенно проникалась сильнейшей симпатией, всячески поддерживала и всеми силами старалась привести их на кафедру, оставить на преподавательской работе. При этом аспиранты могли иметь совсем другого научного руководителя. Она ценила и умела увидеть способность или неспособность к научным поискам, как говорится, наличие искры Божьей или отсутствие таковой.
Нинель Федоровна задержалась в Уфе еще на несколько дней. В это время она работала над монографией об основах квалификации преступлений. Помню, после этого в разговоре с Мариной Борисовной Костровой, во многом благодаря стараниям которой нас принимал Башкирский государственный университет, я услышала восхищение работоспособностью Нинели Федоровны. С раннего утра она отправлялась в архив Верховного Суда республики, другие республиканские органы и без устали собирала материал. А ей в это время было почти 80 лет. Зато и книга получилась яркой, живой. Впрочем, не было у нее других.
И хотя последние годы были отягощены многими недугами, Нинель Федоровна остается в памяти очень сильным человеком, необыкновенной женщиной, сохранившей свое обаяние до последних дней. Нинель Федоровна очень не любила вопросов о здоровье. Когда все-таки они выскакивали, в голосе тут же появлялся металл: «Мы, кажется, договорились не обсуждать эту тему?!»
И хотя все знавшие Нинель Федоровну отмечают цельность ее натуры, бескомпромиссность и решительность, в человеческих отношениях она не была человеком двух тонов — черного и белого. Умела она проявлять и терпение, и такт, и сочувствие, и сопереживание. Единственное, чего не могла простить — это предательства. Но и не встречала я людей, готовых на всепрощение... А вот если дело касалось уголовного законодательства или другого профессионального вопроса — тут никаких полутонов быть не могло. На отстаивание своих идей, идеалов права, своей гражданской позиции необычайного уровня планки Нинель Федоровна бросалась сразу, открыто и бескомпромиссно. Постулатом профессора Кузнецовой был «добро должно быть с кулаками» (а мне при очередном его провозглашении все время вспоминалась работа Р. Иеринга «Борьба за право»). Помню ежегодную декабрьскую конференцию 2002 года. К сожалению, часто этот форум у нас носит формальный характер. Незадолго до нее сотрудница факультета передала Нинели Федоровне проект закона, уже прошедшего чтения в Думе, Совет Федерации, но еще не подписанный Президентом. Излишне говорить, что это был за проект. Мгновенно по согласованию с Владимиром Сергеевичем Комиссаровым план работы секции меняется и все посвящается разгромному обсуждению проекта по каждому пункту. Более яркой декабрьской конференции я не помню. Искры летели! Заседание затянулось до позднего вечера и продолжилось на следующий день. Была принята обширнейшая и подробная резолюция. К сожалению, ее, как и многие другие решения учебных и научных заведений, проигнорировали. Нинель Федоровна не была бы собой, если бы остановилась на этом. Далее последовали открытые письма, яркие выступления с максимально обнаженной действительностью. Уже позже Нинель Федоровна так же болезненно отреагировала на решение о переводе учебной дисциплины «Криминологии» из раздела обязательных в раздел вариативных, то есть избираемых по решению конкретного ВУЗа. Накануне конференции, организованной Российской криминологической ассоциации в 2009 году она позвонила Президенту ассоциации Азалии Ивановне Долговой и инициировала этот вопрос. После этого было несколько обращений Сопредседателям Учебно-методического объединения с просьбой отказаться от неверного и опасного решения. Немного отойдя от криминологии в части преподавания, Нинель Федоровна никогда не бросала свое детище, следила за ее судьбой и первой бросилась на ее защиту в момент опасности.
Нинель Федоровна обладала интересным даром, состоящим из аналитического ума, необычайной интуиции и способностью научного и административного предвидения. Сочетание данных достоинств нечасто встретишь у ученых мужей, у женщин-ученых оно тем более редко. Помнится, в свое время очень запомнилась мне теория (принадлежащая, естественно, мужскому перу). Суть ее сводилась к определению различий мужчин и женщин ученых. Мужчинам-де принадлежит основная часть научных открытий, ибо именно им в силу психофизиологических различий присуща способность к аналитическому мышлению, генерированию новых идей. Удел женщин-ученых — компилировать и интерпретировать эти мысли. (Исключением авторы теории считали С. Ковалевскую). Так вот, феномен Н.Ф. Кузнецовой полностью опровергает эту очередную гендерную идею. Мало того, что сферу ее научных интересов всегда составляли фундаментальные сложнейшие темы, она и решала эти вопросы по-особому. Всегда предлагая, а не интерпретируя, всегда прогнозируя, а не только анализируя. Ее идеи, научно защищенные и доказанные в исследованиях, либо сформулированные между делом всегда поражали точностью, меткостью, прозорливостью. Как это чувствовалось на заседаниях кафедры при обсуждении тем кандидатских диссертаций новорожденных аспирантов! Насколько важны были ее предложения, в которых учитывалось все — от значимости проблемы до практической возможности реализации научного исследования. Идеями она делилась свободно и щедро. И это касается не только аспирантов родной кафедры, это было всегда и везде, где бы ни была Нинель Федоровна. Особенной жемчужиной в общем облике Нинели Федоровны было ее чувство юмора. Емкое, краткое и... достойное. Попадала она не с бровь, а глаз. Но при этом так виртуозно, что делало даже самую убойную шутку легкой (но не легковесной) и красивой.
Легендой Нинель Федоровна стала еще при жизни. Пример, конечно, не показательный, да, вероятно, и неудачный. Но запомнился сильно. В 2004 году в летней школе в Санкт-Петербурге при упоминании имени профессора Н.Ф. Кузнецовой мы с Глебом Богушем (мы тогда были слушателями школы) с ужасом услышали возглас одной молодой аспирантки: «Как, а она разве еще жива?». Мы тогда весело рассмеялись, понимая, что это имя настолько уже было канонизированным, что услышать его в череде живущих было для начинающего ученого неожиданностью. Тогда нам действительно казалось, что так будет всегда.